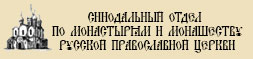«Молитва – причина спасения, виновница бессмертия души...» (свт. Иоанн Златоуст). Молитвенное делание как путь к Богообщению: что способствует и что препятствует молитве [+ВИДЕО]
Доклад епископа Павлово-Посадского Силуана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместителя Управляющего Делами Московской Патриархии, на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Кирилла (Храм Христа Спасителя, зал Церковных Соборов, 25 сентября 2023 года).
С трепетом начинаю я свое выступление, считая весьма дерзновенным, чтобы не сказать дерзким, рассуждать в таком высоком и досточтимом собрании избравших равноангельный путь жизни о том, что, по слову преподобного Иоанна Синайского, составляет главное «дело Ангелов», «пищу всех бесплотных», – о «матери добродетелей, священной и блаженной молитве»[1].
«Пребывание и соединение человека с Богом… утверждение мира… умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей… источник добродетелей… пища души, просвещение ума, секира отчаянию, указание надежды… укрощение гнева, зеркало духовного возрастания… предвозвестница будущего воздаяния...» – так образно и вместе с тем емко определяет молитву великий автор «Лествицы»[2].
Именно молитва представляет собой кульминацию духовной жизни; во-первых, потому что она актуализирует все планы человеческого бытия – дух, душу, тело – и, вместе, все силы внутреннего человека – ум, чувства, волю; а во-вторых, потому что в молитве даже больше, чем в общении Таинств, проявляется ипостасное начало разумного творения, свободно определяющее себя по отношению к Творцу. И только с этих позиций возможна сама молитва как богочеловеческий диалог двух несоизмеримых, но обращенных навстречу друг другу ипостасей.
Будучи прежде всего личным актом, молитва своим качеством, а следовательно, и плодами, главным образом, зависит не от внешних обстоятельств, сколь бы значимыми они не были сами по себе, а от свободно избранной и ежедневно отстаиваемой стратегии духовного самоопределения по отношению к Богу и в общении с Ним.
Важен опытный духовный наставник! Но глубина усвоения его уроков зависит от ученика. Даже боговдохновенное слово становится действенным мотивом нашей духовной деятельности лишь тогда, когда оно в муках заново родится в нашем собственном сердце. Важен уставной контекст молитвенной жизни и братская атмосфера монашеской общины! Но ни то, ни другое не уберегает в полной мере ни от надрывов неразумной ревности, ни от формализма при остывании духовного горения.
В ипостасном измерении молитвы присутствует удивительное благородство, чуждое и тени самооправдания, способное мужественно нести всю полноту ответственности за каждый свой шаг, за каждый вздох, за каждое движение мысли и чувства. Но здесь же ощущается и великое вдохновение, дерзновенно, хотя и благоговейно, взыскующее «власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12). Здесь, как ни в чем ином, в непосредственном, лицом к лицу, предстоянии Самой Истине открывается безграничное пространство той свободы духа (ср. Ин. 8:32), без которой монашество, да и христианство как таковое, утрачивает само себя, потому что перестает быть жизнью в ее наиболее подлинном – духовном – значении.
Но дарованная человеку свобода духовного самоопределения по самому своему смыслу с неизбежностью содержит в себе драматичную альтернативу диаметрально противоположных путей. С одной стороны, искание и постепенное обретение той полноты совершенства, которую апостол Павел именует любовью (Кол. 3:14). С другой, риск сорваться в то самовожделение и своеволие, которое первым явил падший денница и которым увлекаются мириады его последователей.
Ипостасное делание не может быть иным, как только свободным, даже если свобода осуществляет себя на ложном пути. Главная задача делателя молитвы – развернуть свою свободу к Богу так, чтобы дать Духу Святому простор действовать в нашем внутреннем человеке и его проявлениях во внешней, эмпирической жизни.
Святые подвижники в своих богомудрых творениях подробно и всесторонне осветили великое искусство молитвенного делания. Из всего их наследия я коснусь лишь двух аспектов или, правильней сказать, двуединого аспекта, имеющего прямое отношение к теме моего выступления и чрезвычайно актуального в нашу эпоху тотального комфорта и информационных соблазнов. Речь идет о решимости и внимании. Оставляя за скобками такие ключевые основания молитвы, как вера, покаяние, терпение, я, конечно, преследую цель не умалить их значение, а остановиться лишь на том, что обеспечивает действенность и плодоносность этих оснований. Не всякая вера спасает, поскольку «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2:19), но остаются бесами. Другом Божиим (Иак. 2:23) становится лишь тот, кто вслед за патриархом Авраамом «сверх надежды верит с надеждой» (Рим. 4:18) и вместе с апостолом Павлом «в отчаянных обстоятельствах не отчаивается» (2 Кор. 4:8).
Решимость и есть готовность идти до конца, за пределы возможного, невзирая ни на что. Иначе говоря, решимость – это готовность умирать в твердой убежденности, что, «если мы со Христом умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим. 2:11). А внимание – это фокус ума, его концентрация на Едином, «заключение ума в словах молитвы»[3] и среди них сосредоточение на самом главном слове – Имени Божием. Такая концентрация предполагает неминуемое совлечение всех мыслей и образов плотского человека и лежащего во зле мира. Причем под «умом» здесь следует понимать не рассудочную деятельность, а «умное чувство»[4], пользуясь термином святителя Григория Паламы. Внимание не только мысль, заключенная в слова молитвы, но и созвучное этой мысли сердечное чувство, так же, как и мысль, всецело обращенное к Богу. Таким образом, молитвенное внимание представляет собой не отвлеченно-интеллектуальную медитацию, а целостный умно-сердечный акт. И если умная грань этого акта означает совлечение всех человеческих помыслов, всей рассудочной деятельности, то его сердечная грань предполагает болезнование сердца.
«Всякая молитва, – читаем в творениях аввы Исаака Сирина, – в которой не утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется за одно с недоношенным плодом чрева»[5]. Так или иначе эта мысль широко присутствует в библейских текстах и святоотеческих творениях. О «духе сокрушенном», который «Бог не уничижит», говорит святой псалмопевец (Пс. 50), о «болезнующем сердце» рассуждает Иоанн Лествичник, свидетельствуя, что без него даже великие подвиги «притворны и суетны»[6].
Важно зафиксировать, что эта сердечная боль не является технической стороной молитвы, своего рода, психосоматическими издержками духовной практики, которые нужно просто перетерпеть. Очевидно, природа этой боли не столько психологическая, сколько духовная, и притом благодатная, и, следовательно, болезнование сердца имеет существенное значение для преуспеяния в молитве, но вместе с тем представляет собой и главный камень преткновения для ее делателей, некий огненный рубеж, отсекающий любую имитацию духовной жизни, подмену ее формальным, пусть и уставным, начетничеством, или гедонистическим по своей природе исканием душевных утешений, или, наконец, эгоцентричным устремлением к вышеестественным духовным дарованиям и соцерцаниям. Утешительная сладость и глубина созерцания, конечно, суть закономерные следствия молитвенного подвига, но не они являются главным критерием его истинности, а значит и спасительности.
Понимание природы сердечной боли при напряженном молитвенном труде находим в следующих словах «Лествицы»: «Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол Судии прежде Страшного Суда»[7]. Согласно Божественному Откровению, «Суд... состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3:19). Какой бы меры совершенства не достигла молитва, если она исходит из верных оснований и направлена к истинной цели, она неминуемо ставит нас перед Лицо Божие, то есть погружает в божественный Свет, Который при наличии упомянутых условий может оставаться незримым для телесных очей, но всегда ощущается сердцем. Причем просвещающий Свет Божества одновременно является и «Огнем поядающим» (Евр. 12:29) для нашей недугующей богопротивлением души. Подчеркну, что этот огонь Страшного Суда дух молитвенника не воображает, не мыслит рассудочно, а проживает в некоей сокровенной очевидности, что ограждает его внимание, но нуждается в великой решимости.
Конечно, такая решимость не может быть результатом исключительно человеческой воли. Важно помнить о диалоговой, богочеловеческой природе молитвы во всех ее сторонах и предпосылках. И в этом смысле внимание и решимость в подлинном молитвенном акте представляют собой не волевой вектор, исходящий из одной точки – точки нашего «Я» – к теоретически мыслимой цели, пусть даже именуемой «Богом», а силовые линии между двумя полюсами, обусловленные своим напряжением, реальностью и активностью этих полюсов. Чтобы сохранить свою силу и действенность, решимость и внимание мы должны постоянно утверждать себя в духовно созерцаемой и непрерывно проживаемой очевидности присутствия Бога в нашей жизни и мире вокруг нас. Это – то «хождение пред Богом» по бескомпромиссному пути заповедей, о котором говорит Писание, или «вертикальное ориентирование в бытии», как выражаются философы[8]. Молитва не что иное, как способ исполнить заповедь Божию.
Остается найти то, что может послужить источником вдохновения для решимости умирать в молитве за заповедь Христову и для удержания молитвенного внимания, совлекающегося всего интеллектуального богатства и означающего добровольную нищету духа и безумие пред миром. Верному очевидно, что для исполнения заповедей, которое является смыслом молитвенного подвига, нет иного истока и одновременно цели, как только любовь ко Христу. Спаситель мира говорит об этом прямо: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (Ин. 14:23). Однако важно указать, где эта любовь проявляет себя наиболее полно и действенно. И ответ на этот вопрос только один: на любовь распятого за человеческий род Сына Божия сыны человеческие могут ответить лишь распинающейся любовью к Нему.
Нигде так не трудно устоять в вере и любви к Богу, как у подножия Его Креста. «Для Иудеев соблазн… для Эллинов безумие» (1 Кор. 1:23), Крест Богочеловека стал сокрушительным испытанием даже для учеников, бывших самовидцами Его чудес и откровений. Ничто человеческое не выдерживает испытания «мерилом праведным»[9] – Крестом нашего Господа. Но вместе с тем именно на Голгофе явлен способ удовлетворить этому мерилу правды Божией, и этот способ – крест благоразумного разбойника. Именно он представляет собой наиболее плодотворный архетип молитвенного делания, потому что молитва разбойника ввела его в рай.
Сама физическая пригвожденность ко кресту и связанные с этим телесные страдания не имели духовного значения, о чем свидетельствует образ другого распятого рабойника. Распятие для обоих разбойников лишь фиксирует неотвратимость смерти как торжества правды Божией в перспективе Страшного Суда. Естественной реакцией на эту правду для противоестественного, поврежденного устроения человека, утверждающего свою свободу в акте богопротивления, является ропот неразумного разбойника. Не будет ошибкой предположить, что и благоразумный разбойник пригвождается ко кресту в аналогичном духовном состоянии. По крайней мере, двое из четырех евангелистов, повествующих об этом событии, – Матфей и Марк – говорят без различия, что разбойники, «распятые с Ним, поносили Его» (Мф. 27:44, Мк. 15:32).
Что послужило причиной радикального переворота, произошедшего в благоразумном разбойнике, о котором сообщает евангелист Лука (Лк. 23:39-43), мы с уверенностью сказать не можем, просто потому что этот переворот есть изначальная точка акта свободы, ни из чего не выводимая, ничем не детерминируемая, но остающаяся, раз и навсегда, тайной совершенной в своей предельности любви. Так или иначе, но разбойник решается принять невыносимую для человеческой плоти и самолюбия правду Божию, принять все свои страдания и неотвратимость смерти и делает это перед лицом поруганного и умирающего Сына Человеческого, совлекшегося на Голгофе всего Своего величия и славы.
Немногословная молитва разбойника, изнесшая из бездны его ипостасного самоопределения исповедание беспримесного покаяния и всецелого доверия Христу, была актом вдохновения, прозревшего во мраке истощания Богочеловека Свет Его Божества. Безусловно, это не могло произойти без помощи свыше, но сама эта помощь стала возможной лишь в ответ на готовность вдохновиться красотой распятого Христа.
Крестная жертва Сына Божия есть полнота Откровения о Боге. Совершенство Его силы и премудрости известны и ветхозаветному боговедению, и даже за пределами богооткровенной религии. Но совершенство Его кротости и смирения, в котором Он являет полноту Своей любви, как выражение абсолютной, ипостасной свободы, Его благородство в добровольном восприятии образа раба для того, чтобы говорить с нами на равных, – все это есть та «Божия сила и Божия премудрость», которую знает лишь христианство. Бог судит грехи человека не столько Своей правотой, сколько Своей красотой. И только тот, кто поражен красотой распятого Господа, кто в трепетном благоговении повергается в прах перед благородством Его крестного самопожертвования, может решиться во имя этой красоты стоять насмерть против всей силы вражией в напряженном и тщательном внимании к тончайшим действиям благодати Божией в своей душе и окружающем мире.
Путь молитвы исполнен тесноты и скорби, о которых предупреждает Своих последователей Христос, но нет другого пути, ведущего в жизнь вечную, и всякому, кто решается идти этим путем до конца, открываются такие горизонты боговедения и самопознания, за которые он искренно благодарит Бога и вслед за апостолом Павлом воспринимает само свое, порой запредельное, страдание как драгоценный дар свыше (ср. Флп. 1:29), как самую полную и подлинную возможность ответить на любовь Божию своей любовью.
_____________
[1] Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 28:1.
[2] Там же.
[3] Там же. Слово 28:19.
[4] Григорий Палама, свт. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Триада I, часть 3. Ответ третий, 3.
[5] Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 11.
[6] Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 7:64.
[7] Там же. Слово 28:1.
[8] Напр., М. Мамардашвили.
[9] См. кондак Девятого часа.
Источник: «Монастырский вестник»